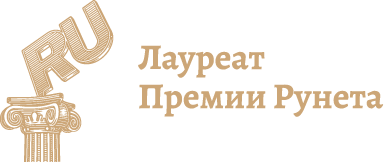Елена Боннэр: "Андрей Дмитриевич любил, чтоб я была при нем"

В книге Юрия Олеши “Три толстяка” героиню, маленькую прелестную девочку, зовут Суок. Имя писатель взял у своей жены, урожденной Суок. Их было три сестры - Суок.
С этого начался наш разговор с известной правозащитницей, вдовой академика Андрея Дмитриевича Сахарова, Еленой Георгиевной БОННЭР.
Он происходил пятнадцать лет назад…
- Елена Георгиевна, я хочу поговорить с Вами о любви…
- Ну уж нет!...
- А вы любите книжку "Три толстяка" Олеши?..
- Да, конечно, люблю, с детства люблю.
- А почему вы удивились? Это же имеет к вам прямое отношение.
- Никакого.
- Cестры Суок: одна - Лидия Густавовна Суок, мама Севы Багрицкого...
- Лида - мама Севы Багрицкого, Оля - мама его двоюродного брата Игоря Росинского, который осенью 37-го покончил жизнь самоубийством, с которым я тоже очень дружна была...
- А еще Серафима Густавовна Суок, жена Нарбута, а потом Шкловского... Но главное – Сева Багрицкий…
- Да, в общем, очень сильно связано. Но я думаю, любовь к книге - вне этой связи, а гораздо раньше…
- До того, как вы познакомились с Севой?
- Нет, наверное, не до того. Но до того, как я узнала, что Лида - урожденная Суок, и Оля тоже. То, что они Суоки, я узнала довольно поздно.
- Я тоже поздно. Это было удивительно, когда я увидела женщину, имевшую отношение к Суокам, жену Виктора Борисовича Шкловского, а потом узнала про вас, что вы были женой Севы Багрицкого...
- Ну, женой я не была. Преувеличение.
- Невестой...
- Я была то, что Эдуард Георгиевич называл "наша законная невеста". Но это было очень рано, лет с девяти...
- Сева был тем мальчиком, который уступил вам место за партой - так счастливо начались ваши отношения. А потом мальчик погиб на фронте. Скажите, Елена Георгиевна, любовь играла в вашей жизни большую роль?
- Я думаю, у каждого нормального человека, если у него нет каких-то психических или психо-сексопатологических сдвигов, она обязательно играет большую роль. Может быть, главную.
- В вашей - главную?
- Я думаю, что да. Однако я, воспитанная, или выросшая, правильней сказать, в другой атмосфере, не люблю на эту тему говорить. Мне кажется, есть области, которые не подлежат публичному обсуждению. И наше время, делая их публичными, принижает их роль в духовной жизни человека. Я, например, считаю, что говорить о собственной религиозности, собственной вере тоже не пристало. А спрашивать об этом - вторгаться в интимную сферу духовной жизни. Любовь - то же самое.
- У вас в книжке "Дочки-матери" есть эпизод, как вы собирали то ли ягоды, то ли цветы для Андрея Дмитриевича, а он в это время, оказывается, собирал какие-то лесные цветы для вас, и вы встретились, он вам протянул свой букет, вы ему - свой. А когда собирали, у вас слеза упала на букетик. Я могу сказать, что этот эпизод свидетельствует о ваших чувствах и о вас гораздо ярче, чем если б вы открывали свой внутренний мир, свою любовь очень бурно и ничего не стыдясь.
- Во-первых, книга - это в какой-то мере наедине. Наедине с собой и наедине с одним читателем. Который или пройдет мимо, или его это затронет и станет для него тоже личным. А во-вторых, ведь этот эпизод связан с тем, что мы остановились по дороге из Москвы в Ленинград, на том участке шоссе, где идут сплошные могилы 42-43-го года, могилы бойцов почти полностью уничтоженной Второй ударной армии. Для меня это опять личное переживание.
- Ваша жизнь полна сильных переживаний. Она пришлась на такой исторический отрезок, где все было: и 37-ой год, и война, и после войны, и вся история жизни с Сахаровым, гонения, Горький, освобождение...
- Я думаю, что любое время для человека, общественно откликающегося, несет в себе все. Век девятнадцатый железный... То же самое.
- Век девятнадцатый - золотой. Железный - наш, двадцатый.
- Это не я сказала, это Блок сказал. А почитайте мемуары ХУ111 века, что там творится. Мемуары участников той войны - что там. Одно дело, когда нам преподносят вычищенную историю первой ли, второй ли мировой войны, и совсем другое, ну, предположим, воспоминания Муравьева о Бородинском бое. Единственное, чему можно радоваться, что сегодня из истории вынимают прилизанные страницы. Но она становится прилизанной по-другому. Я, из-за внучки, что-то читала в учебнике истории для девятого класса. Она ужасна. Не содержанием, а тем, как она изложена. У меня создалось впечатление, что был один перекос, теперь другой. Оказывается, все наши цари, князья - исключительно собиратели и патриоты...
- Елена Георгиевна, как все эти сломы на вас сказались? Какой вы выходили всякий раз из очередной истории, когда посадили ваших родителей, когда погиб Сева?
- Ну, я не знаю. Очень трудно сказать. Нет, мне кажется, все той же.
- А не так, что вы делались сильней?
- Думаю, что той же. Я вообще считаю, что характер и будущие особенности личности закладываются в детстве, даже в раннем детстве. Природа, генный комплекс, и самое главное, атмосфера, в которой живешь.
- А какой вы были девочкой? И в какой атмосфере росли?
- Была девочка как девочка.
- У вас суровый был отец, очевидно. Партийный работник?
- Ну, партийный работник. Но отнюдь не суровый.
- А дома атмосфера чести?
- Атмосфера сложная. Атмосфера раздвоенности. Потому что папа и мама были увлеченными и абсолютно искренними коммунистами, а бабушка - великий скептик. И росла я в этом противодействии одного другому.
- А вы не можете рассказать, как встретились с Андреем Дмитриевичем? Или это совсем личное?
- Нет, это давно стало публичным. Андрей Дмитриевич утверждает, что он меня впервые увидел у Валерия Челидзе. А я совершенно не помню его при такой встрече. Хотя имя Сахарова, конечно, знала очень хорошо. Для меня первая встреча - это суд в Калуге над Пименовым и Вайлем.
- Вы уже в то время были правозащитницей?
- Ой, Господи Боже, это теперь напридумывали: "правозащитница", то, другое, третье. Я была нормальным человеком. Если судят моих друзей, то совершенно естественно, что я там была.
- Вы были тогда врачом?
- Я всегда была... то есть не всегда, а как только закончила институт.
- И на фронте врачом?
- Нет, нет, я никак не могла быть на фронте врачом. Просто по возрасту я не могла кончить вуз. Я кончила один курс института, и совсем не медицинского, а герценовского, в Ленинграде, вечернее отделение филфака. Тогда был лозунг: девушки нашей страны, овладевайте второй оборонной профессией. Полагалось не просто овладеть, а сдать экзамен. Вот я и сдала как медсестра.
- И воевали как медсестра? Или как пехотинец, боец?
- Нет. Я была прислана в армию совсем смешно. Где-то в конце 30-х, по-моему, в армии отменили комиссарство и ввели должность политрука. И появилась такая должность - замполитрука. Это обычно человек, занимающийся комсомольской работой. Я была взята в армию по комсомольской мобилизации в этой должности. Но очень скоро меня сделали из политрука санинструктором. Это самая меньшая ступень, меньше может быть только санитар-носильщик.
Тоже должность. Очень страшная, очень важная, как вы понимаете. У санинструктора были в подчинении отделения санитаров-носильщиков. Вот я была санинструктор. До первого ранения. А потом производственно росла. После госпиталя я была просто медсестра в санитарном поезде, потом - старшая медсестра вагонов для легкораненых, потом - старшая медсестра санитарного поезда, и уже в самом конце войны меня назначили замначальника медчасти саперного батальона.
- Книга Веры Пановой “Спутники” и фильм, который был снят про санитарный поезд...
- Очень похоже. Это просто про нас.
- Смерти на войне врезались в душу?..
- Это никогда не стало ощущением потока. Никогда. Мы, я говорю "мы", потому что все девочки, очень ощущали раненых какими-то своими близкими. Никогда не было ощущения потока. Каждая смерть была безумной травмой. И к этому, в общем, не привыкаешь. Или кто-то, кто привыкает, не может быть медиком. Вот так я бы сказала.
- А это свойство откликаться на все, что происходит, начиная от личной боли и кончая общественной, всегда вам было свойственно?
- Я думаю, да. Я где-то писала, что в школьные годы моя классная руководительница звала меня "коллегия защитников". Когда я заглядывала в учительскую, она всегда говорила: "Ну что, коллегия адвокатов, что у вас произошло?"
- Вы борец за справедливость?
- Да.
- За всех униженных и оскорбленных...
- Качала права, да.
- Наверное, вам было крайне тяжело видеть и слышать, когда Горбачев сгонял Сахарова с трибуны и грубо кричал на него. Вы это видели по телевизору?
- Эту знаменитую сцену, когда выступал Червонописский, да, я видела по телевизору. У нас во время съезда был такой быт: я утром отвозила Андрея Дмитриевича заседать, это близко, по набережной проехать семь минут, возвращалась домой, садилась к телевизору, как вся страна, и когда там объявляли перерыв, спускалась и ехала за ним. Он приходил к выходу, вот к Василию Блаженному на спуск, там машины ожидающие стояли. Я уже давно стою жду. Если перерыв большой, мы ехали домой обедать, а если небольшой, то в "Россию". И в тот день я приехала, как всегда. Стояла курила, ко мне подошел Станкевич, сказал какие-то слова, что, мол, какой это ужас. А потом вышел Андрей Дмитриевич с тремя женщинами в национальных туркменских или узбекских одеждах, тоже депутатами, которые, видимо, выражали свое сочувствие. Остальные депутаты, которые шли мимо, и те, кто меня хорошо знал, даже не кивнули.
- Типичная история.
- Да. И когда Андрюша подошел, я говорю: “Может быть, не поедем в "Россию", поедем домой, ты больше не пойдешь заседать”. А он говорит: "А почему? Что я, украл у кого-нибудь что-нибудь?" Пошли пообедали, и я его привезла назад.
- Только высокое чувство собственного достоинства позволяет, чтобы это как от стенки отскочило. Чтобы на это не реагировать.
- Мы уже к этому времени ко многому привыкли.
- А вам не было досадно, что это тот же человек, который вызволил вас из Горького?
- Понимаете, все очень относительно. Ни тот человек, ни другой, не царь, не Бог и не герой... Со мной не всегда согласны, а я думаю, что мы преувеличиваем роль человека в данном контексте. Просто этот жест необходим был для продолжения и углубления контактов с Западом.
- И вы уже тогда это понимали?
- Абсолютно.
- А когда вы жили в Горьком, вы все время чувствовали этот гнет над вами или вам бывало и весело тоже?..
- Нам было и весело, и когда мы были вместе, когда нас не разлучали насильственно, это был все равно счастливый быт, счастливая жизнь. Но гнет, давление мы ощущали постоянно, и я думаю, что я больше, чем Андрей Дмитриевич, просто в силу эмоционального склада. Потому что вот это ощущение постоянного наблюдения, постоянного подглядывания, постоянного пропадания каких-то мелочей, когда начинаешь думать, а вообще ты сумасшедший или нет. Кто украл мою зубную щетку? Кто сидел за моим стулом? Кто ел из моей тарелки? Мы жили все время так. Андрея Дмитриевича это меньше, чем меня, выводило из себя, но я ведь умею разряжаться, а Андрей Дмитриевич не умел.
- А как вы разряжаетесь?
- Ну как, начну орать так, что у них там все магнитофоны трещат, могу дать кому-нибудь из наблюдателей за нами по морде.
- Вы сказали слово "быт". А какой быт был у вас? Вы, видимо, скорее "верхним этажом" живете, быт - это так, подспорье?..
- Ничего подобного. Нормальный быт. Убрать, постирать, обед приготовить, пирог испечь. И все остальное прочее.
- Вкусные вещи умеете печь?
- Я могу сказать, что, по-моему, больше всего Андрей Дмитриевич гордился тем, как я хорошо готовлю.
- Сейчас, наверное, не готовите? Или случается?
- Когда приезжают внуки или дети - готовлю. А так - нет. Я даже смеюсь, что я скоро разучусь пить... Не пить, а печь. Пить я никогда не умела, вот проговорка какая...
- А Андрей Дмитриевич любил выпить? Или тоже совсем нет?
- Нет. Нет. Нет.
- В доме этого не водилось?
- Ну спиртное водилось, потому что люди-то приходили. И не все ж такие, как мы.
- Елена Георгиевна, а когда были всякие трудные медицинские дела с вами, с ним, это очень тяжело переносилось?
- Очень. Это до сих пор... Ужасно, потому что... Я не уверена, что это делалось нарочно, я никогда не скажу этого, но судя по всему, Андрея Дмитриевича очень неправильно лечили. Я только понимала, что медикаменты, которые ему дают, плохо влияют на него. И мне приходилось их отменять.
Так получилось, что то заболевание сердца, от которого Андрей Дмитриевич внезапно скончался, миокардиопатия, нашими врачами никогда не была диагностирована. Ему ставили диагнозы: коронарная болезнь, микроинфаркт, инфаркт, предынфаркт, и мне, уже после его смерти, все время внушали, что миокардиопатия при жизни не диагностируется. А я кардиологию взрослую и новую не знаю. Но Андрей Дмитриевич всего дважды был у американского кардиолога, и в первой же записи появился диагноз: миокардиопатия. И в тех документах, которые у меня есть из американского госпиталя, написано, что те медикаменты, и перечислено, какие, делали хуже: мэйк ворс. Понимаете? Мне кажется, что это врачами делалось, как говорят, с переляку. Уж очень они боялись ГБ, которое над ними стояло.
- Вы привыкли жить без него или нет?
- Ну, разве такие привычки вырабатываются? Я думаю, что нет. Конечно, я вошла в какую-то колею. Вот "Дочки-матери" - я очень люблю эту книжку - я ее писала совсем в другом состоянии души, и когда мне говорят, почему я не пишу дальше, впереди еще отрочество, юность, зрелость, старость, и любой период интересен.... но я же в другом внутреннем состоянии нахожусь. Я не могу.
- Вы писали свою книжку ему?
- Да, в основном для него.
- Как раз сегодня я прочла интервью одного молодого журналиста, он берет его у другого, более опытного и зрелого. И упоминая Сахарова, спрашивает: не зря ли все было?..
- Вот вы говорите - правозащитник, диссидент, что стало с диссидентами. А ничего не стало. Они себя сохранили. А те, кто придумывает, что правозащитник или диссидент - это профессия... Это не профессия, это - мироощущение. И человек, которого относят к этому кругу, имел такое мироощущение, и его не сломала система. Он остался со своим миром. Вот и все.
- А вы думаете, сегодня время Сахарова?
- Нет, абсолютно не время. Это не значит, что не надо сохранить все, что сделано Сахаровым. Но когда отмечают, как сказал Сахаров, или Сахаров сегодняшний, Сахаров вчерашний - это просто чистый штамп. На самом деле, по существу никому нет дела.
- Почему?
- Ну, почему? Потому что так бывает в жизни.
- А он был нужен десять лет назад?
- Я думаю, что в тот момент, когда произошло явление Сахарова стране, вот в связи со съездом, - он был нужен, да. Очень нужен. Я думаю, что он был очень нужен как некий маленький огонечек, светлячок во тьме, когда о нем упоминали в том или ином контексте только западные радиостанции. А потом каждый человек нужен. Конечно, нужен.
- А я вам скажу такую вещь. Вот есть Герцен, скажем, есть Чаадаев. Я могу спросить, а нужен сегодня Герцен или Чаадаев? Время ли их? Вы мне скажете - нет. Не время. А я вам скажу, что, наверное, время Сахарова, как и их время, теперь будет всегда.
- Спасибо вам.
- И сегодня тоже его время. Все равно этот праведник на Руси уже стоит...
- Да никакой он не праведник! Просто человек, который так жил.
- Человек, который хорошо жил.
- Хорошо, по-моему. Да.
- Конечно, спросить, допустим, жену протопопа Аввакума, она, наверное, тоже сказала бы что-то вроде вас. Потому что когда с человеком живешь, это одно...
- Она все сказала одной фразой: "Доколе?"
- Это он ей сказал одной фразой: "Всю жизнь, Марковна, всю жизнь". Но вы так его не спрашивали?
- Не спрашивала.
- В беседе, о которой я вам сказала, есть упоминание о том, как вы были в гостях вместе с Андреем Дмитриевичем и вышли минут на десять, и Андрей Дмитриевич забеспокоился, ему было без вас неуютно, не по себе. Он любил, чтоб вы были рядом?
- Да, Андрей Дмитриевич любил, чтоб я была при нем. Если я что-то делала на кухне, он брал свои бумаги с письменного стола и шел и садился работать за кухонный стол.
- Сколько лет вы прожили вместе?
- Девятнадцать.
- В вашей книжке есть такая деталь, которая мне также понятна, когда вы пишете, как перепуталось: Сева-Андрей, Андрей-Сева. В жизни так бывает. Когда настоящее чувство может вдруг иметь и это имя, и то...
- Бывает. Я вот своих внуков и сына очень часто Андрюшей называю. И наоборот было. Это от какой-то скученности внутри.
- Внутри они вместе... Спасибо, Елена Георгиевна. Вот мы и поговорили о любви. Я очень вам благодарна, что вы все-таки распахнулись.
- Ну, ладно, будем считать, что распахнулась.
Читайте также:
В Бостоне скончалась вдова Сахарова